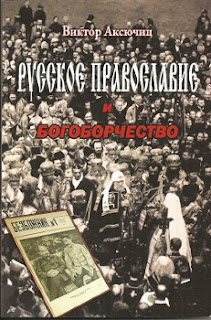Единственная
фотография Гоголя.
Фрагмент
группового дагерротипа С.Л. Левицкого.
Рим, 1845
В персонажах Гоголя,
как известно, воплощены не отдельные человеческие недостатки, а целые комплексы
пороков. Каждый из этих пороков имеет свою природу, свою причину возникновения.
У одних – социальные корни, у других – исторические, у третьих –
профессиональные, у четвёртых – возрастные и т.д. Однако среди всего этого многообразия непременно должен быть ещё один,
главный, – общечеловеческий порок. По поводу «Ревизора» Гоголь писал: «Лучше пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли <…> Всякий хоть на минуту, если не на
несколько минут, делался или делается
Хлестаковым…». «Умный актер, прежде чем схватить мелкие причуды и мелкие особенности внешние
доставшегося ему лица, должен стараться поймать общечеловеческое выражение роли».
Об этом же говорится и в «Мёртвых душах»:
«А кто из вас, полный христианского смиренья, не гласно, а в тишине, один,
в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит во внутрь собственной души сей
тяжелый запрос: “А нет ли и во мне
какой-нибудь части Чичикова?”». Поэму
Гоголь начинает с детальной обрисовки образа каждого помещика, доводя его до
кульминации – предложения Чичикова продать «мёртвые души». Именно
в такой, проверочный, момент и выявляется «общечеловеческое
выражение роли» – главный порок персонажа. Рассмотрю вкратце эти ситуации.
«Крепколобая баба»
Пропустив Манилова, о котором речь
впереди, начну с Коробочки. Помещица, выслушав предложение продать мёртвых, не
столько боится продешевить, сколько чувствует
что-то неладное. Однако Чичиков загоняет её в такую ситуацию, где надо не чувствовать, а рассуждать логически.
«”Или
вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?”. – “Нет, этого-то я не
думаю. Что в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что
они уже мёртвые”.
”Ну, баба, кажется, крепколобая!” – подумал про себя Чичиков». Действительно, рассуждения
Настасьи Петровны восхитительны с логической точки зрения: от мёртвых нет проку
именно потому, что они мертвы, а не живы, но смущает достопочтенную помещицу только
то, что они… мертвы. И всё-таки Чичиков предпринимает ещё одну попытку достучаться
до «крепкого лба». Рассчитывая на корыстолюбие Коробочки, предлагает сравнить
продажу мёда с продажей мёртвых душ: «Там вы получили за труд, за старание
двенадцать рублей, а тут вы берёте ни за что, даром, да и не двенадцать, а
пятнадцать, да и не серебром, а всё синими ассигнациями». Теперь уж Павел Иванович уверен, что
сломил сопротивление помещицы: «После
таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец
подастся». Однако у
Коробочки есть в запасе козырь, побить который бессильна самая блистательная
логика: «”А может, в хозяйстве как-нибудь
под случай понадобятся…” – возразила
старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом…».
«Дубинноголовость», неспособность проследить логические связи жизненных
явлений, понятий и есть то самое «общечеловеческое выражение роли», о котором шла речь. «Общечеловеческое» не означает, конечно, что у всех без исключения есть порок,
запечатлённый в том либо другом гоголевском образе. Достаточно, что он присущ многим людям
во все времена. Коробочка – единственная женщина среди помещиков. Однако Гоголь
утверждает, что «крепколобость» свойственна не только
лучшей половине человечества: «…Иной и почтенный, и государственный даже
человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в
голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов,
ясных как день, всё отскакивает от него, как резинный мяч отскакивает от стены».
Позволю себе сделать здесь лирическое отступление. Мне
представляется, что именно для женщин неспособность логически воспринимать
жизнь ни в коем случае не является пороком, это – неотъемлемая черта женской натуры. Женщина
зачастую способна проникать в суть предмета гораздо глубже и тоньше любого
мужчины. Но когда возникает необходимость логически связать найденную суть с
остальным миром, возникают значительные затруднения. Грибоедов в своё время
говорил Бестужеву-Марлинскому о женщинах: «Судят
остроумно, только без основания, и,
быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Есть
исключения, зато они редки; и какой дорогою ценой, какой потерею времени должно
покупать приближение к этим феноменам. Одним словом, женщины сносны и
занимательны, когда влюбишься».
Ироническое употребление оксюморона «женская логика»
порождено лексической путаницей. В
определённый исторический момент, по-видимому в эпоху Просвещения (раньше он
встречался окказионально), начался тот процесс, который махровым цветом
доцветает сейчас. Женщине и мужчине показалось недостаточным то, что они дополняют
друг друга, они захотели завладеть свойствами противоположного пола. Мужчины,
которым способность тонко чувствовать жизнь во всех её проявлениях даётся, чаще
всего, только в области творчества (женское начало есть в любом художнике),
позавидовали женщинам, для которых чувство – путеводитель в любой жизненной
ситуации. Поэтому среднестатистический мужчина, логически осмыслив нечто,
предпочитает говорить: я чувствую… И наоборот: среднестатистическая женщина,
постигнув чувством то, что не постигается умом, говорит: я думаю… Эта словесная
путаница далеко не безобидна. Она закрепляет в сознании нивелировку полов: один из них не дополняет другого, а
подменяет его. А раз так, то соединение мужчины и женщины не несёт в себе никакого
промыслительного смысла, а является лишь социально-физиологической
необходимостью. «Но мимо, мимо! – как
сказывал Гоголь, – зачем говорить об
этом?».
«Исторический человек»
Следующим является Ноздрёв. Он – жулик и другого жулика нутром чует. Именно
поэтому он пытается проникнуть в суть
замысла Чичикова и задаёт (единственный из помещиков) прямой вопрос: «Да зачем же они тебе?». Не получив
удовлетворительного ответа, Ноздрёв предлагает
справедливую, с его точки зрения, сделку: мошенничество – на мошенничество. Он
перечисляет разные варианты, где можно смухлевать: обмен, карты, шашки. Когда же
всё это не проходит, всплывает главная, пожалуй, черта Ноздрёва, о которой читатель
уже предупреждён: «Есть люди,
имеющие страстишку нагадить ближнему,
иногда вовсе без всякой причины. <…> Такую же странную страсть
имел и Ноздрёв. Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех насаливал…».
Гоголь использует здесь слово «ближний», ассоциирующееся со второй
заповедью Христа: «Возлюби ближнего
твоего, как самого себя». У Ноздрёва,
как видим, «возлюби» заменяется словом «нагадить». По этой антихристианской
«заповеди» и живёт «разбитной малый»:
он не способен бескорыстно возлюбить, но
всегда готов бескорыстно нагадить.
Этой «странной страсти»
и даёт волю Ноздрёв, когда все попытки сжульничать проваливаются. Начинает он с
мелкой пакости (приказывает слуге давать лошадям Чичикова солому вместо овса), а
заканчивает попыткой отлупить Павла Ивановича. Но главная гадость ещё впереди:
именно Ноздрёв рассказывает на балу о плутне Чичикова и вынуждает того бежать
из города.
Вряд ли «страстишку нагадить ближнему... без всякой причины» можно назвать
«общечеловеческим пороком». Человек западного склада сколько угодно напакостит
другому. Но только при условии, что извлечёт какую-то выгоду для себя. Наш же
русский человек, увы, готов зачастую делать гадости совершенно бескорыстно, по
широте души. Этот порок и вывел Гоголь в Ноздрёве.
«Чёртов кулак»
Собакевич олицетворяет собой название поэмы: он – почти аллегорическое изображение «мёртвой
души». Не случайно в разговоре с ним Чичиков боится даже произнести слово
«мёртвый»: «Насчет
главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души
умершими, а только несуществующими. Собакевич всё слушал по-прежнему, нагнувши
голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души…». Михайло Семёнович просто не различает понятия «мёртвый»
и «живой». Расхваливая
своих умерших мужиков, «Собакевич вошёл,
как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова». «”Но позвольте, – сказал наконец Чичиков, изумлённый таким обильным наводнением
речей, которым, казалось, и конца не
было, – зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку
теперь нет никакого, ведь это всё народ мёртвый…” – “Да, конечно, мёртвые, –
сказал Собакевич, как бы одумавшись и
припомнив, что они в самом деле были мёртвые, а потом прибавил: – Впрочем,
и то сказать: что из этих людей, которые числятся
теперь живущими?”».
Для «мёртвой души» Собакевича не существует живых людей: они
лишь «числятся теперь живущими», точно так же, как потом будут числиться мёртвыми. Различие
лишь в том, как записать. Не случайно о появлении на свет Михайлы Семёновича
говорится как об изготовлении вещи: «Известно, что есть много на свете таких
лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких
инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со
всего плеча: хватила топором раз – вышел нос, хватила в другой – вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши,
пустила на свет, сказавши: “Живёт!”». А с другой стороны, вещи в доме Собакевича выглядят как
люди: «Стол, кресла, стулья –
всё было самого тяжёлого и беспокойного свойства, – словом, каждый предмет, каждый стул,
казалось, говорил: “И я тоже Собакевич!” или: “И я тоже очень похож на
Собакевича!”».
«Странное явление»
В образе Собакевича «мертвенность души» доведена до предела.
По этому пути дальше идти некуда. Гоголь и не идёт. В последнем помещике –
Плюшкине – «мертвенность» не усугубляется, но, напротив, проявляется едва
уловимое «живое начало». «И на этом деревянном
лице вдруг скользнул какой-то тёплый луч, выразилось не чувство, а какое-то
бледное отражение чувства, явление,
подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего…». Плюшкин – единственный из помещиков, у
кого есть биография; его нынешнее состояния – результат развития, пусть и
деградирующего. А развиваться может лишь живой организм. Гоголь готовил
Плюшкина к тому, чтобы он «ожил» во второй (так и не написанной) книге «Мёртвых
душ», в которой вся Русь должна была выйти на дорогу, ведущую к духовному
воскресению.
С другой стороны, «общечеловеческое выражение роли» в Плюшкине
достигает самой высокой степени обобщения. Начинается 6-я глава с лирического отступления,
где автор впервые в поэме говорит о себе. Он вспоминает своё детство и юность,
когда смотрел на окружающий мир «любопытным
взглядом» и «ничто не ускользало от
свежего тонкого вниманья». С возрастом всё изменилось: «…То, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и
немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои
недвижные уста». Вскоре читатель увидит, что подобные же изменения
произошли и с последним из помещиков. Только, говоря о себе, автор рисует
элегическую картину, а изображение Плюшкина доводит до грани гротеска. Гоголь
ставит вопрос, можно ли эту фигуру считать фантастической: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!
мог так измениться! И похоже это на правду?». Ответ, который даёт Гоголь,
малоутешителен для человечества. Плюшкин не
порождение фантазии
писателя-сатирика, а печальная жизненная реальность, только данная в сгущённом
виде: «Всё похоже на правду, всё может
статься с человеком. Нынешний же
пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в
старости». Выстроенная цепочка «Автор – Плюшкин – Нынешний пламенный
юноша» и переводит изображение последнего из помещиков в общечеловеческий план:
каждый человек, «выходя из мягких юношеских
лет в суровое ожесточающее мужество», черствеет и теряет на жизненной
дороге многие из тех «человеческих
движений», которые были даны ему изначально. «О моя юность! о моя свежесть!».
«Ни в городе Богдан ни в селе Селифан»
О первом из помещиков «Мёртвых душ» – Манилове – я решил
поговорить в последнюю очередь и более подробно, поскольку уяснение понятия
«маниловщина» мне представляется очень важным. Главное свойство Манилова
раскрывается читателю ещё до кульминационной сцены. Когда Чичиков перепутал
название деревни и спросил у мужиков, где находится Заманиловка, те настойчиво
повторяют: «Вот это тебе и есть
Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было». Вскоре Гоголь
прямым текстом скажет, что Манилов манит к себе, но заманить не может,
поскольку за внешней привлекательностью скрывается нечто отталкивающее: «В первую минуту разговора с ним не можешь
не сказать: “Какой приятный и добрый человек!” В следующую за тем минуту ничего
не скажешь, а в третью скажешь: “Чёрт знает что такое!” – и отойдёшь подальше; если ж не отойдёшь,
почувствуешь скуку смертельную».
Стремление прикрыть внешней изящной оболочкой какую-нибудь
дрянь проявляется и во всём, что окружает Манилова. «Прекрасная мебель, обтянутая щёгольской шёлковой материей», скрадывает
кресла, обтянутые рогожей. «Ввечеру
подавался на стол щёгольской подсвечник из тёмной бронзы с тремя античными
грациями», а «рядом с ним ставился
какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале». «Ко дню рождения приготовляемы были
сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик…» Однако этот красивенький
чехольчик предназначается для столь прозаического предмета, как зубочистка. На подоконниках в кабинете – горки никому
не нужной трубочной золы, но «расставленные
не без старания очень красивыми рядками».
Особо хочу остановиться на одной предметной детали: «В его кабинете всегда лежала какая-то
книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно
читал уже два года». Что означает эта деталь? Можно, конечно, свести
её к саркастической насмешке. Но можно посмотреть и по-другому: ни в одном из домов
других помещиков книгу и вообразить нельзя. Выходит, что Манилов прочитал в
полтора десятка раз больше страниц, чем остальные (он и с журналом «Сын
Отечества» Греча – Булгарина был знаком). Недаром ещё в армии «считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером». Дело не
только в книге: Манилов жаждет «духовного
наслаждения», «поговорить о
любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак
расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое...». Если учитывать всё это, то образ Манилова – сатирический портрет интеллигента[1],
особенно если рассматривать его на фоне других помещиков.
Обратимся теперь к реакции этого помещика
на предложение Чичикова. Вначале Манилов смущён, не может взять в толк, о чём
идёт речь: «Может быть, вы изволили
выразиться так для красоты слога?». Павел Иванович
понял, чего от него хотят, и тут же прикрыл своё жульническое предложение
красивой фразой: «…Закон – я немею
пред законом». «Последние слова понравились Манилову», но он ещё колеблется. Тогда Чичиков даёт самому помещику
шанс поговорить красиво. И тут наступает звёздный час Манилова, он может
продемонстрировать своё «высокое искусство выражаться»: «Но
позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб ещё более, так
сказать, выразиться, негоция, – так не будет ли эта негоция несоответствующею
гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?». Какая красота! Чего
стоит хотя бы дважды повторенное слово «негоция»!
Да ещё надо учесть то, как произносится эта тирада: «Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень
значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых
губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на
человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и
то в минуту самого головоломного дела». Всё, можно считать, что сделка совершена: за «духовное
наслаждение», возможность
поговорить красиво, испытать «паренье этакое» Манилов,
конечно, отдаст несчастные «мёртвые души», закроет глаза на сомнительный характер
сделки. Чичиков тут же всё понял и не
стал утруждать себя аргументацией. Не важно было, что именно говорить, лишь бы
вставить красивое слово, лучше всего – ту же «негоцию»: «Но Чичиков сказал
просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет несоответствующею
гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом
прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины.
– Так вы полагаете?..
– Я полагаю, что это
будет хорошо.
– А, если хорошо, это
другое дело: я против этого ничего, – сказал
Манилов и совершенно успокоился».
Осталось только список «мёртвых душ» обвести красивенькой
каёмочкой и перевязать розовой ленточкой (что и сделает жена помещика). «Розовая ленточка»[2], красивая
фраза – щит, которым всегда прикрывает себя интеллигент маниловского типа.
«Непонятные, редкие слова»
Максим Горький
Этот же тип, спустя более полувека после
Гоголя, вывел Максим Горький в пьесе «На дне». Воплощён он в образах двух
пьяниц – бывшего телеграфиста Сатина и Актёра. На фоне других ночлежников оба
они – интеллигенты. Один был человеком
творческой профессии, другой
– «образованным
человеком», «много читал книг». Оба
болезненно привержены к «красоте слога». Актер произносит «с
гордостью»:
«Вчера, в
лечебнице, доктор сказал мне: ваш, говорит, организм – совершенно отравлен алко́голем…». Его не
слишком интересует смысл сказанного, не беспокоит тот диагноз, который поставил
врач – он смакует красивые, с его
точки зрения, слова: «алко́голь», «организм». Сатину и этого мало: он заменяет «организм» на ещё более красивое, но совершенно бессмысленное в
данном контексте, слово – «органон»,
а дальше демонстрирует всю широту своих лексических познаний: «Сикамбр», «Макробиотика… ха!», «А то ещё
есть – транс-сцедентальный». За этими «умными» словами Сатин прячется от
окружающей мерзости и от самого себя – пьяницы и карточного
шулера. «Люблю непонятные, редкие
слова…». «Надоели мне, брат, все человеческие слова… все наши слова – надоели!». Актер тут же подхватывает тему, ему тоже хочется «паренья
этакого»: «В драме “Гамлет”
говорится: “Слова, слова, слова!” Хорошая вещь…». Так же, как гоголевский Манилов, оба героя Горького за всеми «негоциями» и «сикамбрами» стараются
скрыть от самих себя и от окружающих своё неприглядное «дно».
Вершиной маниловщины Сатина
является его знаменитый монолог о «гордом человеке». «Человек – вот правда! Что такое
человек?..». Тут следует пауза
(обозначенная многоточием), герой как бы осматривается вокруг и видит, что перед
ним не «человеки», а «бывшие люди»[3],
сидящие в «подвале, похожем на пещеру». В
них-то и заключается «правда»? Как-то не вяжется… И Сатин спешит
откреститься от своих сожителей: «Это не ты, не я, не они… нет!». Надо немедленно раскрасить мрачную картину: «это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет…
в одном!». После
добавления в ночлежное сообщество Наполеона с Магометом выходит несколько
лучше, но всё-таки недостаточно отвлечённо. И тогда Сатин одним штрихом завершает
картину: «Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека». Вот
об этом «воздушном человеке» можно уже говорить что угодно: «Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо!». Замечательно получилось! Только ни в коем случае
нельзя конкретизировать образ этого «воздушного», срывать «бисерный чехольчик» с «зубочистки». Нельзя же, в самом
деле, сказать, например: «Квашня – это великолепно! Кривой Зоб – это звучит
гордо!». А великолепный «воздушный человек» всё стерпит. Он
по-маниловски прикроет собой аморализм,
опущенность, безволие, грязь героев «дна».
Интеллигенция и революция
От литературных примеров[4]
маниловщины перейду к историческим. В русской жизни они появляются с самого
момента зарождения нашей прогрессивной общественности. Вот что писал об
интеллигентах этого типа один из создателей сборника «Вехи» М.О. Гершензон: «Полвека толкутся они на площади, голося и перебраниваясь.
Дома – грязь, нищета, беспорядок, но
хозяину не до этого. Он на людях, он
спасает народ – да оно и
легче, и занятнее, чем чёрная работа дома». Другой автор «Вех» – А.И. Изгоев – так описывал революционное студенчество: «Самое тягостное… эта невозможная смесь
разврата и пьянства с красивыми словами о несчастном народе, о борьбе с
произволом и т. д. <…> И в кабаках и в местах похуже передовые
студенты с особой любовью поют и “Дубинушку”, и “Укажи мне такую обитель”...».
Дело не именно в студентах: определяющая
часть нашего интеллигентского революционного движения была окрашена в
маниловские тона. Хладнокровная борьба за уничтожение самих понятий
«христианство», «нравственность», «патриотизм» прикрывалась «красивыми словами о несчастном народе, о
борьбе с произволом и т. д.».
Справедливости ради надо сказать, что не вся революционная
интеллигенция была заражена маниловщиной. Существовало и противоположное
направление – «чистые» нигилисты, предпочитавшие бравировать, называя вещи
своими именами. Первоначально выразителем такого взгляда был литературный
критик Дмитрий Писарев: «…Что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит
удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей
направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть». У Писарева были последователи: автор прокламации
«Молодая Россия» Зичневский, Ишутин с его организацией «Ад», составитель
«Катехизиса революционера» Нечаев и другие. Однако в широких кругах прогрессивной интеллигенции преобладала
маниловщина, твердившая о служении народу и спасении
человечества.
Любопытным явлением здесь представляется вождь большевиков
Ленин. Он был великолепным тактиком и в зависимости от ситуации легко менял
«писаревскую» маску на «маниловскую» и наоборот. Когда это было необходимо для
борьбы за власть, вождь большевиков с нигилистическим ригоризмом мог открыто
признавать себя и своих сторонников «государственными изменниками»: «Пролетарий не
может ни нанести классового удара своему правительству, ни протянуть
(на деле) руку своему брату, пролетарию “чужой”, воюющей с “нами” страны, не совершая “государственной измены”, не содействуя поражению,
не помогая распаду “своей” империалистской “великой”
державы».
В другой же ситуации Ленин предстаёт
классическим Маниловым. Чего стоят хотя бы большевицкие лозунги, выдвинутые в
1917-м: «Власть – Советам! Мир – народам! Заводы –
рабочим! Земля – крестьянам!». «Красота слога» этих лозунгов
соблазнила народные массы и в конечном итоге привела большевиков к власти.
Ленин же прятал в «бисерный чехольчик» совершенно иное, «конспиративное»
содержание. «Власть – Советам»,
но только таким, которыми будут руководить большевики. «Мир – народам», но только после
торжества мировой революции; в крайнем случае – после нашей победы в
Гражданской войне, которую мы немедленно и развяжем[5]. «Заводы –
рабочим», но только через государственную монополию на эти заводы. «Земля – крестьянам», но не в частную собственность, а только через
национализацию всей земли. Однако открыто заявить обо всех этих ключевых программных
установках значило бы для РСДРПб похоронить самих себя. Вот тут и употреблены
были маниловские «розовые ленточки», на сей раз – с помощью «фигуры умолчания».
Во взаимоотношениях между членами только что созданного в
октябре 1917-го большевицкого правительства был эпизод,
картинно воспроизводящий переговоры Чичикова с Маниловым. В роли первого
выступал Ленин, а второго – нарком просвещения А.В. Луначарский. Анатолий
Васильевич, узнав о кровавых и разрушительных событиях в Москве осенью 1917-го,
опубликовал заявление о своём выходе из Совета Народных Комиссаров: «Собор
Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все
важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Жертв
тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы. Что ещё будет? Куда идти
дальше! Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот
ужас я бессилен. Работать под гнётом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя».
Однако почти сразу же
нарком заявление отозвал. Много позже (в 1932-м) Луначарский объяснил своё поведение: «Я
позволю себе привести здесь личное воспоминание, которое особенно ярко запало
в моё сознание и которое прекрасно характеризует широту и торжественность той борьбы за социалистическую
культуру, которую вёл Ленин. Пишущий эти строки был напуган разрушениями
ценных художественных зданий, имевшими место во время боёв революционного
пролетариата Москвы с войсками Временного правительства, и подвергся
по этому поводу весьма серьёзной „обработке“ со стороны великого
вождя. Между прочим ему были сказаны тогда такие слова: „Как вы можете
придавать такое значение тому или другому старому зданию, как бы оно
ни было хорошо, когда дело идёт
об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен
создать красоту, безмерно превосходящую всё, о чём могли только мечтать
в прошлом?“».
Если сформулировать суть ленинского пассажа по-чичиковски, то вкратце выйдет так: «Я полагаю, что это будет хорошо». «Последние слова понравились Манилову <Луначарскому>». «А, если хорошо, это другое дело: я против
этого ничего, – сказал Манилов <Луначарский>
и совершенно успокоился».
Ленин неспроста затеял этот
разговор: ему было совершенно необходимо вернуть дрогнувшего наркома
просвещения в Совет Народных Комиссаров. Вождь хорошо понимал, какую
исключительную роль играл Луначарский в большевицком правительстве. Эту роль и
её маниловскую сущность очень точно определил Леонид Андреев: «Он <большевизм>
съел огромное количество образованных людей, умертвил их физически, уничтожил
морально своей системой подкупов, прикармливания. В этом смысле Луначарский со
своим лисьим хвостом страшнее и хуже
всех других Дьяволов из этой свирепой своры. Он трус и чистюля, ему хочется сохранить приличный вид и как можно
больше запутать людей, зная, что каждое новое “имя”, каждый профессор, ученый
интеллигент или просто порядочный человек соответственно уменьшает его личную ответственность...»
Успокоившись, Анатолий Васильевич уже на следующий день
после разговора с Лениным выдал
новую публикацию, в которой отказывался от
своего решения выйти из правительства. Луначарский был вполне «обработан»,
в своём обращении он прямо проводит мысль вождя (лишь слегка перефразировав
его слова): «В эти тяжёлые дни только надежда на победу социализма, источника новой, высшей культуры,
которая за всё вознаградит нас, даёт утешение». Разумеется, текст был обильно украшен маниловским «бисером». То, что вчера нарком называл «ужасом», теперь преподносится в совсем
другом свете: «Народ, молодой
царь, прежде чем надеть на голову корону – вынужден был своей рукой
навсегда вырвать из неё лучшие камни». «Красота слога», ничего не скажешь!
Но – «мимо
их!.. весёлое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед
ним, и тогда Бог знает что взбредёт в голову».
А.В. Луначарский (в роли Манилова)
и В.И. Ленин (в роли П.И. Чичикова)
Современные интеллигенты не хуже своих предшественников
блещут маниловскими словесными вывертами. Им, например, ничего не стоит назвать
кровавого бандита Шамиля Басаева, прикрывающегося беременными женщинами, «современным Робин Гудом с гранатомётом», а расстрел людей в Белом доме – детективом со счастливым концом.
Можно объявить себя борцом за мир, благословляя тем самым геноцид в Новороссии…
«Но мимо, мимо! зачем говорить об этом?».
***
Я рассматривал здесь маниловщину только в применении к социальной стороне жизни. И в этом
случае она оказывается неотъемлемой частью определённого интеллигентского типа.
Само же понятие «маниловщина», конечно, не ограничивается сферой социальной,
оно неизмеримо шире. Следуя призыву Гоголя, Манилова (как и Хлестакова, и
Чичикова) следует искать в самом себе.
«Всякий
хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается» Маниловым, когда пытается с помощью «красоты слога» найти
самооправдание своим мерзостям и пакостям или смириться со встретившейся на
пути мерзостью и пакостью.
Маниловщина, увы, бессмертна.
Июль, 2022
[1] В
русский язык слово «интеллигент»
вошло несколько позже – в 1860-х.
[2] В нашем современном обществе ленточка
может быть и белой.
[3] «Бывшие люди» – название очерка
Горького, где так же изображена ночлежка.
[4]
Примеры маниловщины в романе Пастернака «Доктор Живаго» я привожу в эссе
«Юнкера».
[5] Ленин на 3-м Съезде Советов в январе
1918-го горделиво заявлял: «На все
обвинения в гражданской войне мы говорим: да. Мы открыто провозгласили то, чего
ни одно правительство провозгласить не могло».